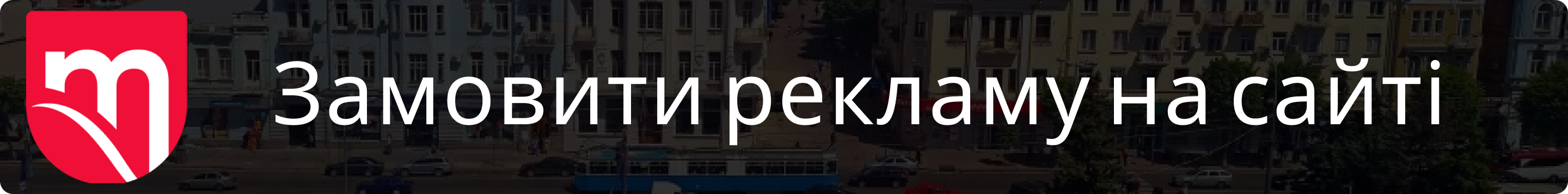Му-Му (Музыка & Муза)
Когда я был юношей, я безумно любил музыку. Не могу сказать, что меня в детстве не принуждали - наоборот, мама прибегала ко всяческим ухищрениям, чтоб заставить меня час в день отсидеть за инструментом. Она даже придумала легенду о специальном прослушивающем устройстве - и на работе, в музыкальной школе, повела в кабинет завуча показать на селекторную связь с директором, которая была в виде серенькой коробочки с двумя кнопками, и спрятана на подоконнике за занавесом.
Я верил и отсиживал, постоянно поглядывая на часы. Это отсиживание привело к тому, что мелкая фортепианная техника во мне так и не выработалась - Шопен и сонаты Моцарта мне стали доступны с определенными ограничениями. Зато Рахманинов, да и рапсодии Листа - короче везде, где нужна была лапа с терцией через октаву и где нужно было наделать много шума, - всегда оставались моим коньком.
Так я поступил в музыкальное училище - нас было трое парней среди двадцати с лишним девочек - нас носили на руках. Помню, сразу же подрались с одним из них в спортзале - конечно, из-за девченки, - только она была с теоретического отдела, поэтому сор из избы не выносили.
Впрочем, расписание общих пар было составлено таким образом, что я большую часть занятий посещал со струнниками - и сейчас, спустя двадцать лет, мы собираемся дружной веселой компанией.
Среди пианисток на моем курсе училась и моя будущая жена - скромная, малозаметная, но очень светлая и чистая девочка, - мы с ней были настоящие друзья с самого первого курса, причем - друзья в прямом смысле этого слова: читали друг другу стихи, предназначенные для других, спрашивали совета в любовных вопросах, плакались друг другу в плечо от тех же неудач или невнимания. Она была хорошей пианисткой - в будущем, она с первой же попытки поступила в Московский педагогический университет на музыкальный факультет. А в те годы она еще и писала песни - настоящий бард - все минорные, все как одна трагические и безысходные. Основная тема - дороги, уводящие неведомо куда и одиночество, сплошное одиночество... Она встречалась с парнями, но ни один не смог оказаться впору ее романтической натуре.
Встречаться мы начали случайно. За ней ухаживал мой друг. Часами ждал на морозе под окнами, спрятав за пазухой розу, - ну, в общем, - все как полагается! Но почему-то ей было не до него. Однако, она быстро включилась, когда он начал остывать. Короче, с обеих сторон я должен был быть арбитром и бабкой-посредницей в их отношениях.
И вот именно в эти минуты, я ее "разглядел". Единственный серьезный разговор был весьма нелицеприятен. Провожая ее после лекций, всю дорогу домой я рассказывал, что чувствую какие-то внутренние движения по отношению к ней, и лучше всего - это прекратить в корне и сразу, - для меня всегда на первом месте будет творчество и работа, я должен быть проявлен в обществе и полезен. Семья, дети и прочие нежности для меня всегда останутся на последнем месте. Так мы расстались... Обоим - чуть больше семнадцати...
Ночь каждый из нас не спал.
"Странный он, - думала она, - вместо того, чтобы пригласить девушку в кино, потому что она ему нравится, он всячески пытается отстраниться..."
"Полный идиот, - думал я, - тебе девушка нравится, а ты нес всякую чушь!..."
Наутро, еле дождавшись конца занятий, мы оба встретились в фойе глазами, молча я взял ее за руку, и мы много часов бродили по городу, так и не сказав ни слова...
Сейчас, спустя двадцать два года, если и ругаемся - то неизменно возвращаясь к той фразе: я тебя предупредил? Что еще взять с творческого шизофреника?
Но тогда, в апреле 1990-го, мир кружился вокруг нас и на дискотеках - мы танцевали всегда только вместе, и на гастролях, когда открывали музей Чайковского в Браилове. Мы прятались от всех - и наш первый поцелуй в день ее рождения, 7 апреля, когда мы закрылись в моем 209-м фортепианном классе, еще долгими холодными ночами в Москве разливался по телу теплом и сладостью...
Меня ждала Москва. Вернее, это потом уже можно так сказать, - а тогда мне параллельно с третьим курсом музучилища приходилось работать, преподавать музыку деткам в Доме учителя, где еще с 15 лет мне завели трудовую книжку и соответственно снимали налог за бездетность. Таковы правила. Нужно было оплачивать дорого репетитора - 15 рублей урок при стипендии в 30 и зарплате в 26, - хотя бы раз в неделю - требования Гнесинской академии из пятидесятидвух абитуриентов, дрожащих рядом со мной, сорокавосьми оказались не по зубам.
Встречались тайно, мать моя была категорически против, она наделала много глупостей, которые так и остались потом не разрешимы до самой ее смерти. Нас выслеживали, "сдавали", дома мне устраивали соответствующие спектакли.
Обидно иногда в моменты ссоры слышать, что тогда я был тверд не из любви, а вопреки воле родителей.
Год разлуки - а я все-таки поступил в Москву, не закончив музучилища, - втихаря я посещал еще и сдавал экзамены в школе рабочей молодежи, - был для обоих довольно тяжел. Мы воспитывались не в те времена, когда легкими интрижками можно было повеселиться во время ожидания большого и светлого.
В тот год я написал одно из самых светлых своих произведений - фортепианную концертную пьесу "Игра света в воде". В природе нет ничего блестящего, кроме этого природного явления, - и звуки рояля, обыгрывая в простой попевочке мажоро-минор - яркими искрами сыпались в довольно сложном технически произведении.
Эта пьеса потом не раз исполнялась в концертах, причем не только в моем исполнении - в Центральном Доме композиторов (ЦДК), на Тверской, ей аплодировали стоя.
До поступления в академию я не позволял себе провести день без написанной строчки. Иногда я мешал отцу смотреть футбол - и он не находил иного способа попросить меня умолкнуть, как приходил, рвал рукописи и уносил выбросить их в мусоропровод.
Впрочем, это было не ново. Еще много раньше, когда я закрылся в комнате за стеклянными дверями от маленького братишки учить уроки, тот с разгону влетел в комнату вместе со стеклом, осколки были везде, - тогда в мусоропровод отправилось все содержимое ящиков моего письменного стола: с тетрадками, ручками, учебниками...
К поступлению я отнесся серьезно. Помимо теоретических предметов - были два сложнейших экзамена по композиции: на первом из них мы показывали все, что привезли из дому - кто как мог: играли, пели, использовали магнитофонные записи. На втором - нас закрыли каждого в отдельном кабинете с роялем, выдали пачку проштампованной нотной бумаги и вскрыли конверт с неизвестными темами. Мне попалась мелодия Белы Бартока. Через шесть часов я должен был сдать готовые вариации в черновике и в чистовике.
Пять или шесть теоретических экзаменов, фортепиано и сочинение. Я так и не прочитал "Войну и мир", но сочинение по Пьеру Безухову написал довольно качественно. С фортепианным выступлением меня огорчили - с моим будущим другом, с которым мы до сих пор поддерживаем тесные отношения, мы играли одну и ту же фа-мажорную сонату Моцарта. Разница лишь в том, что я - пианист, а он - баянист. Вообще, не понимаю, как его учителям пришло в голову дать такое произведение, где и пианисту есть над чем поупражняться, что говорить о народнике?! Короче, играл он его раз в восемь медленнее, несколько раз останавливался, потом вообще сбился и ушел. Оценки у нас были одинаковые - восьмерки...
Зато на первом же экзамене по специальности - профессура не церемонилась: нас выстроили в ряд - всех пятьдесят два человека - и честно сказали - проходных мест всего четыре, поэтому многие уедут домой прямо сегодня же.
Когда читали список - коленки дрожали у всех: такой-то - "два", такой-то - "два", такой-то - "два"... Такой-то - "десять"! Все разом с восхищением посмотрели на этого красивого полубога, выпускника мерзляковского училища при московской консерватории, даже дыхание останавливалось, когда мы, провинциалы, встречались и здоровались с ним в коридоре.
Потом снова - "два", "два", "два", - сыпалось, как горох из коробки. Я думал, что свою фамилию не услышу никогда! Так и произошло - я очнулся - когда меня тискали и жали руку... Сколько-сколько?! - "Девять!"... Это было чем-то просто невероятным...
Тут же вспомнил о маме - она стояла под окнами и последнее ее напутствие было лаконичным: "хоть бы они сразу влепили тебе двойку, чтоб спокойно уехать домой и не тратить денег на бессмысленную затею". Вот я и думал - расстроится она или обрадуется?!
Впрочем, я знал, что удивил профессоров. Не берусь судить о гениальности своих мальчишеских произведений, но то, что они были неординарны в своем роде - это без сомнения. Например, Виолончельная сюита, которую я записал дома с педагогом по камерному ансамблю - мало того, что в ее третьей части звук из рояля извлекался металлической палочкой по струнам в то время, когда чистые трезвучия беззвучно нажимались на клавишах - это было похоже на нечто среднее между арфой и клавесином, - так и сам клавир был оформлен графическими картинками, покрытыми толстым слоем лака с кракелюрами.
Вторым "сюрпризом" - был Фортепианный концерт, в конце его первой части сплошные кластеры переходили в откровенный стук по клавишам, который закончился тем, что я локтями лег на клавиатуру. Правда, после этого была дивная спокойная мелодия, - ну в общем, по другому, юношеский максимализм я и не мог выразить - все-таки сказывалась увлеченность Кшиштофом Пендерецким, с его "Плачем по жертвам Хиросимы", и двенадцатитоновой школой Шенберга-Веберна-Берга.
Потом, все годы учебы, когда я писал для Гостелерадио мелодичные монологи аббата Шантавуана, мой профессор с иронией вспоминал черный кластер в партитуре, охватывающий весь нотный стан...
Но и это было не все. Главной изюминкой моей презентации были мои картины. "Картины маслом", как метко "посадил" герой Машкова. Да, я пытался рисовать, даже брал уроки у какого-то художника на худкомбинате, но навыков у меня не было никаких, потому, все это напоминало сплошную красочную абстракцию. Картины были разложены тут же по стульям, - таким образом, довольно строгой профессуре, каждый из которых - яркий самобытный композитор, со своим почерком, стилем, школой, - был представлен слегка эпатажный юноша, с весьма разносторонними дарованиями из какой-то глубокой украинской провинции. Он нес новые свежие веяния и вполне, очевидно, подходил под прогрессивные устремления заведения, с сороковых годов стремившегося доказать консервативной консерватории свое право на существование...
... У меня с собой всегда были три ее фотографии - одна черно-белая, в какой-то светлой кофточке бабушкиного покроя, одна в черной, со щечками, как у хомячка, и одна - цветная - где мы вместе. Перед самым отъездом мы забежали в фотосалон в доме быта "Юбилейный" - еще в детстве меня бабушка приводила сюда фотографироваться, - теперь мои коллеги, которые там работают и не помнят такого. Нас сфотографировали на бардовом фоне, в руках у нее были три гвоздички.
Так подробно я описываю эти фотографии потому, что больше ни их, ни нот, ни картин, - ничего не осталось. В пожар 1997-го года, жена вынесла завернутых в одеяло малышей и прибежавшим на помощь соседям только и успела крикнуть, чтоб спасли пленки и фотографии.
Это был рубеж. Позади годы учебы, наивная пора, когда я тащил на себе в Юрмалу тяжеленный мольберт и пытался укрыться между соснами, пока она загорала на песке. Все равно море было холодное - однажды я чуть не утонул - волна перевернула меня и начала уносить. Помню, бил его, море, изо всех сил, пока еле-еле кончиками пальцев не начал нащупывать дно.
В Дзинтари нам не давали проходу - ее яркая внешность, улыбка лучащаяся на все четыре стороны, огромная копна вьющихся пахнущих волос, стройная фигурка, - мне постоянно приходилось отбиваться от сулящих ей цветы, шампанское и красивую жизнь. Впрочем, их вообще не смущало, что рядом муж. Однажды мы парились вдвоем в финской сауне в Майори, заглянул банщик: вы не против, если еще один молодой человек к вам присоединиться?
Я ее постоянно фотографировал. Подаренный папой "ФЕД" остался дома, с собой была маленькая, но очень удобная "Смена". Мы общелкали всю старую Ригу, все побережье до самого Кемери. А сколько было сделано ее чудных портретов! До сих пор перед глазами один - в огромных наушниках и перемотанном горле - она подхватила ангину, и чуть не сорвались из-за этого наши выступления в Малом зале консерватории.
Кроме того, что она была блестящей пианисткой, она прекрасно пела. И ее новые учителя в университете всячески поощряли и развивали в ней это умение. Вершиной нашего совместного творчества была Сюита на японские тристишия. Невероятно сложная - она звучала около восемнадцати минут без сопровождения, и написана была в особом, придуманном мною, ладу, отчасти напоминая восточную пентатонику, но постоянно модерируя и виляя мажоро-минором.
Первый концерт был назначен в малом зале Гнесинки, на четвертом этаже. Мы одолжили концертное платье у ее сокурсницы - ныне она уже доктор наук. Платье было длинное, приталенное, и материя - словно змеиная шелуха.
Когда в зале раздался ее звонкий голос: "На ветках цаги, словно спелый жемчуг, росинки блещут дивной красотой, но тают вмиг от рук - молю тебя, прохожий, любуйся издали, не трогай их рукой!" - зал лег. Помню восторженное лицо моего любимого профессора, Геннадия Владимировича Чернова, аплодисменты завкафедрой Кирилла Евгеньевича Волкова. Произведение пришлось спеть на бис дважды.
Ничего этого уже нынче нет. В ночь пожара я был на гастролях. Приехал только под утро, когда от свежевыстроенного дома осталось одно пепелище. Впоследствии выяснилось - ошибка электриков - слабый силовой кабель начал искрить перед самым автоматом. Искры попали в потолочное пространство, куда для утепления была насыпана стружка, - деревянный сендвич горел, по рассказам, всего десять-пятнадцать минут, взвивая в небо змеей из пламени и искр...
Друзья мне дали Тойоту - автомат с правым рулем и полным баком бензина. Двое суток меня не видел никто - даже я сам себя - помню из машины я не выходил - просто бесцельно наматывал километры по Москве и за ее пределами...
Сгорело все мое творчество... Записи с концертов позже мне частично удалось восстановить в архивах Гостелерадио, но в последние годы это стало невероятно дорого - цены измерялись в долларах, а время копирования - в минутах...
Среди прочих записей я нашел Сонату для скрипки и виолончели, - виолончель с детства осталась моим любимым инструментом для кантилены, - Марат Сафин, а позже - Артем Варгафтик, ныне известный телеведущий-путешественник - оба прекрасные виолончелисты, попеременно исполняли эту Сонату (имена скрипачей уже не помню), в том числе, и на конкурсе в Министерстве культуры. Конкурс я выиграл, Соната попала в отдел закупки произведений, мне вручили Диплом и восемьсот рублей положили на сберкнижку. В 1993 году это были уже не те восемьсот рублей, что два года назад, деньги на глазах превращались в фантики, и все же для двух студентов - это было целое состояние. Мы раздали долги, связанные со второй и последней поездкой в Прибалтику - через неделю граница была закрыта, и даже кое-что осталось, чтоб купить портативный кассетный аудиоплеер...
... Тот год, когда она заканчивала училище дома, а я был уже в Москве, мы в основном переписывались - за письмами иногда приходилось ездить далеко, по старым адресам. Встречались редко, и то - в Киеве, на денек - я утром приезжал из Москвы, она - из Винницы. Днем мы гуляли, сидели в кафешках, а вечером - разъезжались, каждый к себе. Поэтому, до сих пор, Киев остался для меня городом романтических встреч, уютных, сокрытых аллей, круч над Днепром и щемящей болезненной ноткой расставания...
В Москве я жил с хозяйкой в однокомнатной квартире, снимал угол за пятьдесят рублей. Доня Соломоновна меня любила как сына, но это не мешало ей через пять минут после того, как я заходил в ванную, стучать в дверь с криком: "Золя!!! У нас в Москве так не моются!!!"
Ей было под восемьдесят. В тридцатые годы она приехала в Москву откуда-то из моих мест к мужу, известному пролетарскому художнику. Муж умер рано. Сын пошел по стопам отца - тоже стал художником. Их картины похожи, и одинаково правдиво-суровы. Сын тоже умер рано. Невестка с двумя сыновьями долгие годы не общалась с ней, и только под конец, наладился контакт, чтоб бабушка вывезла всех в Израиль. Мне недавно написала ее внучка от первого брака сына, что Доня Соломоновна до последнего вспоминала меня и мечтала когда-нибудь снова увидеться.
На кухне у меня стояло последнее чудо техники - один из первых компьютером - "Микроша". Его выпускал Лианозовский механический завод. И купить его можно было только в нескольких магазинах Москвы. Стоил он 840 рублей плюс еще за 250 какой-то кооператив делал к нему приставку для работы с музыкой. программы загружались с кассетника, а партитурой (условной, естественно) я управлял на красном телевизоре "Юность" - подарок будущего тестя. Сегодня вся та "электронная музыка" кроме широкой улыбки ничего не вызовет, но тогда я себя подбадривал, что на фоне нудных занятий на АНСе - это был настоящий прогресс.
Единственный рабочий АНС, один из первых "нестандартных" инструментов, названный в честь Александра Николаевича Скрябина, хранился под опекой журфака МГУ - туда мы и ходили "сочинять". Процесс "сочинения" был довольно увлекательным - и, главное - непредсказуемым в своем конечном результате. Принцип работы прост: большая стеклянная пластина закрашена черной мягкой краской, которую в любых местах можно процарапать или соскоблить - в этом как раз основной момент творчества. Затем пластина помещается в механизм, который медленно прокручивает ее перед световым лучем. Там, где процарапано - проходит свет и издается звук. Если процарапано параллельно в нескольких местах - возникает аккорд. Откуда берутся сами звуки - не спрашивайте - не вникал.
Иногда писал музыку в метро, особенно для своего приятеля, который несмотря на испорченную сонату Моцарта, тоже поступил, правда, не вошел в четверку счастливчиков, но для него каким-то чудом открыли специальное, пятое место. Попросил он меня написать потому, что сам он был очень скурпулезным композитором: в академию он поступал с тремя частями инструментального Септета, потом за пять лет учебы он дописал еще три - они звучали на госэкзамене, а потом, аспирантуру закончил уже с полным произведением из семи частей. Поэтому, промежуточные экзамены, ему порой были просто не под силу!
А мне, склонному к додекафонии и экспериментальной музыке, реализовать формулу "sator Arepa tenet opera rotas" в метро, да еще и для друга - было делом играючим... Помню, как он краснел, бледнел, синел на экзамене, когда перед его носом, носом выпускника добротной пермской композиторской школы, ныне покойный Николай Иванович Пейко, легенда советской музыки, тряс листами партитуры... Оказывается, к каждому свой подход и воспитание - что мне проходило с рук, то некоторым было зязь...
Впрочем, я любил чудить несусветные вещи... На первом курсе, зимой, я приехал в родное училище. В училище - концерт выпускников, и естественно - переполох, за всю его историю существования, только двое поступило в Гнесинку: Элеонора Михайловна Рожкова, пианистка, и я - композитор. Я просто обязан поддержать честь и выйти с концертным номером на сцену. Объяснить педагогам, что я больше не пианист, а музыку теперь сочиняю - было бесмысленно - никто и слушать не хотел! Полный зал - человек пятьсот. Прекрасные педагоги, директор, в пятом ряду - Раиса Семеновна - перед самым выпуском, по замене, когда моя любимая Светлана Леонидовна заболела, - Раиса Семеновна, в свойственной ей безапеляционной манере заявляла, что я никогда не буду пианистом! Впрочем, она была права. Из-за кулис, а в общем-то из другого уже мира, я быстро соображал что делать? Нет, я мог выйти и сыграть того же Рахманинова или Скрябина - в академии меня профессор Новикова, ученица Нейгауза, быстро поставила на колею, несмотря на то, что фортепиано из специального для меня превратилось в общее.
Но тогда они все меня будут обсуждать - со вздохами удовольствия и сарказма: Москва, мол, так и не научила этого шалопая вот это место сыграть вот так, а не иначе. Знаю я наших! Нет уж...
В училище я всегда учавствовал в капустниках. Жаль, эта форма студенческого юмора на сегодня умерла, отчасти ее сменили игры в КВН, но только отчасти... Я призвал на помощь всю свою смекалку. И нашел прекрасный выход!
Я объявил о том, что буду исполнять Семнадцатую фортепианную пьесу Карлхайнца Штокгаузена, немецкого композитора - пьесу, посвященную Клаудио Аббадо. Тут я было осекся - "при чем здесь дирижер Аббадо?!" Просто накануне я был на его концерте и тот мне расписался серебрянным фломастером на афише. Но было поздно. Впрочем, вряд ли присутсующие знали, что у композитора Штокгаузена вообще не было фортепианных произведений. На противоположной стороне сцены, за кулисами, стояла завуч Рожкова, она же и вела концерт. Предварительно я ей объяснил, что произведение содержит свободные вариативные формы, которые исполняются ad libitum. Короче, когда она почувствует, что пора кончать - она должна дать мне отмашку. Так она и сделала минут через восемь.
Боже, как я играл! Что я играл - это не принципиально - играл все, что попадет под пальцы! Но как воодушевленно это звучало! Не обремененный точным попаданием в ноты в современной музыке, я показал истинную филигранность мелкой техники в сочетании с мощными многонотными киксами в стиле Игоря Стравинского. Зал стоял, аплодисменты не стихали минут пять. Я был горд собой и счастлив. Я ни капельки себя не винил за шарлатанство - если посмотреть по-другому на ситуацию, ее можно прекрасно оправдать: молодой начинающий композитор, довольно опытный в пианизме (к тому времени - одиннадцать лет за роялем) представил публике смелую экспериментальную музыку, сообразно своим тогдашним устремлениям и пониманию. Но чтоб нивелировать эксперимент - представил ее под чужим именем - именем известного современного композитора, таким образом, оградив себя от спекулятивных мнений и споров о том, где проходит грань между гениальностью и бездарностью.
После концерта ко мне подошел пожилой педагог по фортепиано и со словами восхищения скромно попросил разрешения скопировать ноты... Ноты, конечно же, я оставил в Москве...
Возвращались поздно с друзьями в трамвае. Юра Шепета, мой старший товарищ и кумир - никто не мог сравниться с ним в джазовой импровизации - поглядывал на меня с нескрываемой завистью, тихонько приговаривая: "да... чувак... да..."
— Юра! - я серьезно посмотрел ему в глаза, - я все придумал! Нет никакой Семнадцатой фортепианной пьесы у Штокгаузена! Нет и никогда не было!
— Да ладно, старина! - он похлопал меня по плечу, - скромняга...
Прошел год. Снова я приехал на каникулы - уже второкурсник. Снова тот же отчетный концерт. Снова я обязан на нем выступить и снова никакие отговорки не принимаются.
Ну что ж...
Я вышел на сцену и объявил, что буду исполнять Восемнадцатую фортепианную пьесу Карлхайнца Штокгаузена. Снова Элеонора Михайловна за кулисами давала мне отмашку, снова зал аплодировал стоя и снова пожилой педагог скромно попросил ноты...
Больше я в родное училище не приезжал...
Раз уж вспомнилось о джазе - был у меня такой период, еще лет в четырнадцать-пятнадцать, когда я мечтал стать джазовым пианистом. Обучали такому только в Киеве - в тамошнем музучилище был эстрадно-джазовый факультет. Мы долго с мамой искали само здание, а когда нашли - ужаснулись: двери висели на одной петле, ремонт производился, судя по виду, еще до советской власти. Нас встретил скромно одетый педагог, узнав, зачем мы приехали - провел в просторный зал, где стояло черное покосившееся пианино.
— Ну, поимпровизируй на какую-нибудь тему, - дружелюбно предложил он. Я в ответ робко спросил - "можно на "Елочку"? Известная детская песенка "В лесу родилась елочка" очень удачно и легко ложилась на джазовую импровизацию. Я старался, как мог.
Он не дослушал: "Ну разве так ее играют ?!" - с этими словами он отстранил меня и сам сел за фортепиано. Конечно, то что он "выдал" - было вне всякой конкуренции во всех отношениях: и сложнейшая гармония и свингованный ритм, и блестящие мелодические мелизмы.
Мы с мамой поблагодарили его и ушли. На этом вопрос моего джазового пианизма был закрыт.
... Поженились мы с женой в апреле 1992 года. Она заканчивала первый курс, я - второй. Жила она у подружки моей хозяйки в центре Москвы, такой же древней бабушки, и несмотря на то, что у нее была своя спаленка, мне не позволялось задерживаться после двенадцати - до часу ночи я должен был добраться к себе на окраину, в Медведково. Целовались мы в метро - посторонних для нас не существовало. Однажды, на Татьянин день, мы специально вернулись поздно из гостей, и старушка вынуждена была меня оставить. Это была незабываемая ночь!
Когда мы расписались, я пришел просить семейное общежитие. Мало того, что на первом курсе мне было его не положено вообще, то еще и на втором - пятикурсник жил на моем месте с подружкой, дав понять, что мне претендовать не на что. Теперь в управлении сказали, что у нас с женой разные ВУЗы - не положено. Но мы нашли, казалось, идеальное решение! Мой сокурсник - сейчас он преподает в университете в Торонто - был женат на сокурснице моей жены - и им тоже нужно было общежитие. Мы собрали кучу бумаг по обмену студентами, но чиновники снова сказали "нет".
Мы в отчаянии ходили по Москве, останавливали каждую бабушку и спрашивали, не сдаст ли она нам комнату. Все было безуспешно.
Тогда я позвонил Невзорову в редакцию телепрограммы "600 секунд". Передача выходила каждый вечер после программы "Время" и в течение десяти минут рассказывала о насущных проблемах в стране. Долгие годы потом о известном питерском журналисте Невзорове никто ничего не слышал. И только недавно всплыла информация, что он живет во Франции, в глубинке, и воспитывает дорогих породистых лошадей. О телевидении, журналистике, обществе в целом - и слышать ничего не хочет.
Интервью записали у входа в консерваторию, прямо у памятника Чайковскому. Утром записали - вечером - сюжет в эфире. Случилось невероятное: передачу увидел комендант общежития и наутро я уже получил ключи. Комнатка в высотке из красного кирпича на станции метро Полежаевская - была пределом мечтаний. Красивое здание общежития - его построили для какой-то сборной во времена Олимпиады-80. Отсюда увозили потом беременных от спортсменов русских девушек на поселение за 101-й километр. Здание пропитано блудом, прелостью и антисанитарией. Единственные душевые на все двенадцать этажей - внизу, расписание дней помывки - по очереди. Когда через год ко мне в гости пришел Бред, американский проповедник и бессребренник, он так был потрясен условиями проживания, что оставил нам с женой 50 долларов.
Неделю мы вертели в руках диковинную бумажку, а потом отважились и пошли в валютный магазин "Березка" на Новый Арбат, тогда еще - Калининский проспект. Часа два мы разглядывали невиданные сокровища на полках, вызывая подозрения и нездоровую реакцию охранников-мордоворотов. И вот, наконец, мы решились! Мы купили литровую тетрапаковскую пачку апельсинового сока... за 1,50 доллара!
Мы пили его долго, около месяца, маленькими рюмочками. Пачка стояла сверху над книжной полкой - это был для нас символ истеблишмента и богатой жизни.
Денег у нас на жизнь было в обрез. После свадьбы, на которую родители так и не приехали, я отправил им почтовым переводом назад их пятьсот советских рублей, которые они дали мне на жизнь. После разговора с ректором, меня взяли подметать лестницу в родном институте. В мои обязанности входило убирать ее раз в день, в обеденный перерыв, за это я получал жалованье в 80 рублей, что к стипендии в 40 рублей было весьма неплохой прибавкой. Так продолжалось какое-то время, пока я не сделал замечания Иосифу Кобзону, стряхивающему пепел там, где я только что подмел. Меня уволили.
Я не гнушался никакой работой - несколько лет я работал аккомпаниатором в балете. Дети учились большими группами - ездить приходилось в Дома культуры на разных концах Москвы.
До сих пор в памяти отпечатались резкие фразы моего балетмейстера - одинокой, слегка истеричной женщины, приехавшей тоже из какой-то глубинки: "фондю!", "фраппе!", "фуэте!"...
Дети не хотели становиться в третью позицию, и она кричала на них.
Интересная работа была в театре за режиссерским пультом. Я озвучивал детские сказки, и каждый раз я судорожно пытался не перепутать и не включить вместо Бабы Яги песенку какой-то принцессы. Магнитофоны бобинные, всего два - пока на сцене разговаривают, надо найти нужную бобину, успеть заправить через несколько роликов пленку, намотать ее конец на чистую катушку и в наушниках найти нужное место включения. Короче - детям радость, а с меня пот градом сходил к концу спектакля.
То ли дело у нас в институте. Я учился параллельно на факультете звукорежиссуры у замечательного педагога, ныне покойного, Петра Кирилловича Кондрашина, сына знаменитого дирижера Кирилла Кондрашина. Сам Кирилл Кондрашин полюбил молодую голландку и, обретя второе дыхание, прожил счастливую половину своей жизни в Европе. Похоронен где-то под Амстердамом. Как пишет Довлатов, первая супруга Кондрашина рассказывала в итоге подругам: "Был бы поумней - похоронили бы, как человека, на Новодевичьем".
Петру Кириловичу я очень благодарен. Он научил меня главному - техника без человека - ничто. Микрофон без ушей - ничто. А сейчас я в своих лекциях проэцирую - и говорю слушателям: фотоаппарат без глаза - ничто.
Мы делали линейный монтаж на огромных СТМах - бобинных студийных магнитофонах - лента была на километровых катушках. По сравнению с обычными бытовыми магнитофонами, работающими на 33-й скорости, здесь скорость была 78-й. Поэтому, если мы вырезали фальшивую ноту и вклеивали ее из второго дубля - отрезок ленты в руках мог достигать десяти-двенадцати сантиметров, и мы часами туда-сюда крутили бабины, тренируя уши найти точное место для стыка. Потом пленка разрезалась под углом и склеивалась с другим фрагментом тут же на монтажном столике специальным скотчем.
Когда мы писали большой симфонический оркестр - перед нами был 60-канальный пульт, два монитора и обязательно партитура с карандашем.
— Когда вы слушаете из зала соло скрипки, - учил Кондрашин, - вы видите скрипача и можете "зрительно настроится" на него. Но микрофону параллельно - он слышит и скрипку, и задних тромбонистов, и шарканье стульев, и переворот страниц - короче все на свете. Поэтому перед вами ползунки - на сцене 60 микрофонов, и вы, звукорежиссеры, вместе с дирижером - второе промежуточное звено между композитором и слушателем - если у автора написано крещендо - будьте добры сделать его ручками!
... "В городе чужом бродит человек чужой, ищет дом родной, но распята вера... Благослови его, Господь!" - эту песню мне написала будущая жена, провожая в Москву. Единственная песня, посвященная мне. Ее стихи и ноты тоже сгорели, никто больше не писал песен, концертов, сюит... Сгорел мольберт и все мои картины, сгорели дневники и тетрадки со стихами, - а ведь я до последнего хотел поступать в московский литературный институт имени Горького, моя первая учительница по литературе до сих пор хранит мои детские школьные сочинения - тогда они приносили славу школе не только на областных, но и на республиканских смотрах.
Да и не до творчества уже было. Двое маленьких детей на руках, через полгода, в августе 98-го - финансовый кризис, диплом композитора, с которым при советской власти полагались лишние двадцать метров жилплощади для рояля - а нынче, не было уже ни советской, ни какой власти, - все это легло на хрупкий мир моей музыки чугунной многотонной плитой.
И только в дружеской компании, пальцы сами иногда вспомнят, какие клавиши они когда-то нажимали...
... Татьяна Николаевна Новикова, мой профессор по фортепиано, жила на Чистых прудах. Примерно там, где Берлиоз с поэтом Иваном Бездомным встретили профессора Воланда. Окно ее кабинета выходило прямо на пруд и звуки маленького кабинетного рояля буквально тонули в насаженных всюду кленах. Она была нашим ангелом-хранителем, всячески помогала. Когда нам нужно было отпраздновать свадьбу - Светлана Николаевна предоставила нам пустующую квартиру своей сестры, художницы. Квартирка была малюсенькая, тоже в центре, ее хозяйка жила в приюте для душевнобольных, а на кухне у стенки стояли запыленные иконы и мольберт.
25 апреля 1992 года выдался солнечным теплым весенним деньком. Леня, мой свидетель, почему-то приехал без свадебных машин - хотя и должен был - пришлось ловить несколько такси. Вдруг ни с того ни с сего выпал снег - буквально снегопад. Тверской отдел ЗАГСа - в центре, в пределах Садового кольца, но добрались мы до него с большим опозданием. Родственников немного - с ее стороны родители с сестренкой, с моей - далекие дядя с женой. Свидетельница Оля, генеральская дочь. Движущуюся картинку никто так никогда и не увидел - тесть вроде и снимал на 16-мм кинокамеру "Красноярск", но пленки вряд ли кто сдавал в проявку. А из фотографий - осталось три цветных фото, причем, одинаково красного цвета - на них мы кажется расписываемся и получаем свидетельство о браке.
Супруга моя в коротком платье из золотой парчи - нам где-то с трудом удалось раздобыть материал, а пошила ее тетка - модельер. И я - с модной прической и в огромных очках. Прическу жена себе делала сама. А вот я просидел часа три в салоне. Старая еврейка колдовала над моей обычной короткой стрижкой, и когда, наконец, она закончила - вздох вырвался из ее пышной груди: "Эх, молодой человек, жаль, что никто из ваших гостей так и не сможет оценить то произведение искусства, которое я сделала на вашей голове!"
... Мы пили горячий шоколад на втором этаже магазина "Гименей" - нам дали специальные талоны "отовариться" перед свадьбой. Мы купили здесь кольца, кажется рубашку и туфли, а талоны на продпаек подарили в знак благодарности Светлане Николаевне - все равно нам не за что было покупать красную икру, сардины и прочие деликатесы. Стол у нас был скромный, в основном состоял из того, что привезли тесть с тещей из дома.
Помню, что предложение я сделал как-то тоже не торжественно. У нас была любимая кафешка на старом Арбате - что-то типа общепитовской пельменной - дешевая и всегда полная народу - мы заказывали какие-то сладости с черносливом и взбитыми сливками. Всю дорогу домой мы болтали ни о чем - провожать ее было недалеко, на Красную Пресню - выйдя обратно к Гнесинке на Воровского и перейдя через площадь Восстания - совсем рукой подать. (А иногда мы закрывались среди бела дня в профкоме - у меня был ключ.) Дойдя до подъезда, я вдруг сказал: "Слушай, а давай пойдем завтра подадим заявление?"
Ее глаза блестели... Она не верила своим ушам. А я ей так и не сказал тогда, что перед самым отъездом в Москву, мама всунула мне огромную ленту презервативов - больше ста штук - со словами: "раз ты такой упрямый - хоть перепробуй других, москвичек, и уж потом решишь, вернуться ли тебе к своей ненаглядной"...
Презервативы так и остались нетронутыми...